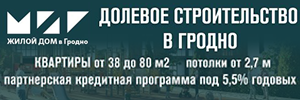Валентин Распутин: видение бытия и небытия
Всю прошлую неделю Россия прощалась с великим писателем ХХ века — Валентином Распутиным. Он один из последних печальников, кто оплакал уходящую деревню и ее жителей. Из среды бесплодной, пустой в недавнем прошлом таких писателей унизительно называли «деревенщиками», хотя проза Распутина поднялась до образцов литературы мирового уровня.
Всю прошлую неделю Россия прощалась с великим писателем ХХ века — Валентином Распутиным. Он один из последних печальников, кто оплакал уходящую деревню и ее жителей. Из среды бесплодной, пустой в недавнем прошлом таких писателей унизительно называли «деревенщиками», хотя проза Распутина поднялась до образцов литературы мирового уровня.
Хочу поделиться своими впечатлениями от рассказа писателя «Видение», в плену которого нахожусь уже несколько лет. У сокровенной литературы есть не один и даже не два слоя значений, священных и сокрытых от читателя. Но по мере освоения и осмысления их раскрываются потаенные смыслы. Такое случалось со мной: вдруг наступала несравненная радость от постижения тайных прочтений.
Без текста рассказа, как мне кажется, не всегда будет понятен мой комментарий. Надо прикоснуться к источнику, к его силе притяжения, к попытке Распутина заглянуть за край, за пределы жизненного бытия… Как знать, может, и его продолжения. Приглашаю читателя в мистическое путешествие.
«Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдет, отзвучит одна волна, одноголосо, пронизывающе вызванивается другая».
В этой странной мистике, которую подсказывает автор, — намек и самое что ни на есть удивление, сам себя человек проверяет: если бы не обморочное забытие, не то сон, не то явь, то реально бы посмотрел на часы, а не может. Слишком далеко провалился или взлетел, в такие дальние глубины или небеса, что там только и слышится странный звон.
«Что это? — или меня уже зовут?
В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это мое имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черед…»
И глаза ли это или нечто иное, чему писатель и сам не может подобрать внятное объяснение? Он так мучается, продвигаясь наощупь в своих объяснениях к себе же самому. Что это — внутривидение, медитация, способность отгородиться от внешнего мира, настройка чувств писателя на параллельные миры, загадочные и необъяснимые, подключение внутренних творческих способностей, остановка времени или проникновение каким-то чудесным способом в текучее время и замирание там, зависание, застывание, поиск будущего, интуиция, третий глаз, зрящий то, что не видимо обычному человеку обычным способом?
Здесь нужны годы и годы подготовки, вдохновенного сочинительства, проникновение в высшие небесные сферы. Это дано избранным труженикам.
«Я способен еще на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и все, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях».
Неужели вычерпан ресурс? Не про тот ресурс думаю, что образуется учебой, чтением книг, наработанным профессионализмом, впечатлениями от увиденного, услышанного, приправленными размышлениями, — одним словом, приобретенный багаж жизни. Нет, писатель о другом.
Чувства, добрые эмоции, пропущенные сквозь сердце, общение с друзьями. И первое — это дом, семья, дети, родители — родственные нити, что мягко опутали и держат на этой земле. Невзгоды жизненнее холода выстужают душу, клонят человека, терзают без меры, сгибают, подтачивают силы, а не падаешь, держишься. Не в этом ли источнике черпаются новые приливы энергии, преобразованные потом в литературные творения? Не в этой ли родной картинке вечный пейзаж жизни — маленькой, простой, подсобранной и укрытой одной теплой ладонью отца, заботами матери в детстве?
Там — опора, там — ровное спокойствие. А когда начинают редеть ряды живых? Уход близких — это оскудение и пустота привычного поля, вчера такого шумного, беспокойного, как и положено быть большой семье… Картинка меняется, наполняется темными, серыми красками, и так беспросветна печальная даль, как глухой тоскливой осенью, когда уже не ждешь ни радости, ни добрых новостей.
«Все чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину».
Верю каждому слову, как неоспоримому документу, как завету. Для меня его слова сравнимы с тихой молитвой, которую автор скупо выпускает из себя, как бы специально сбивая со следа неискушенного слушателя богатством литературного языка, такого родного и незнакомого в его исполнении. Этим волшебством живописания Валентин Распутин владеет мастерски. Он затушевывает, скрывает, недоговаривает, оставляя под осенним небом, под ворохом опавших листьев, в безмолвии и тишине, красоту несравненных мазков и… скрытый айсберг. Эта глыба — всё, что накопил за долгую жизнь: приобретения и потери, преодоление страхов и сердечное смущение, обретение внутренней гармонии и смирение. Это книги, вернее — одна книга, которую пишут, как правило, всю жизнь великие писатели, пророки и мудрецы. Им, монашествующим в книготворчестве, как в трудном послушании, грезятся такие дали и откровения, что лучше бы нам их и не ведать.
«И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными слезами, что готов был раствориться в нем вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолетного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших оттиск в душе, — не знаю».
Чувствовать и знать — разные полюса. Знания произрастают из прошлого, из опыта, из наработанного, а чувствование оставляет точный оттиск в душе, из более древних пра-пра-прошлых, может, жизней, может, видений, может, пророчеств, — никто не знает, но догадывается на уровне чутья, интуиции или незримого присутствия ангела. Ангел к каждому приставлен, чтобы присматривать за нами, отводить беду, напасть, несчастный случай, болезнь, а если нехорошее случается, говорят, что ангел в тот момент отвернулся, не усмотрел.
«“Бабье лето” теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре еще зелено, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем приготовляется без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным сеевом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога».
Как упростился, выветрился в последние годы родной язык, обкатался до гладкости камня голыша — ни вкуса, ни прелести, стесали как с могучего дерева все лишние ветки, сучья, уподобили до последней стоеросовой дубины, засорив чужими пришлыми оборотами и прочей трухой. Вот о чем печалится писатель.
Редко у кого из современных писателей встретишь такую красоту, такую правдивость, суровость и простоту, а здесь нежданная радость, как несбыточная встреча, как последняя любовь,—«на опоздках», «пестряное сеево». Хорошо как, забыто.
«…Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я вижу эту же пору поздней просветленной осени, крепко обнявшей весь расстилающийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не встречалась, а непроизвольно составилась под пером самописца в моем сознании: мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и, как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыграться не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем».
Писатель сам выстраивает догадку, но делает это деликатно, пробуждая в читателях сотворчество, приглашая разделить его сомнения и осенние печали. Попробуйте со мной не только хлеб и вино, но и мою душевную муку. От нее не спрячешься, не скроешься, не убежишь, она всегда с тобой, как авторучка, как карандаш или клавиатура. С помощью их, только их, предметов первейшей писательской необходимости, можно сбросить это внутреннее напряжение, отчаянное и тягостное, как бремя, как камень.
Истерзанное, чуткое сердце писателя такое отзывчивое и ранимое. Кто из вас разделит со мной мою печаль, мою вселенскую печаль и боль? Одинокое молчание. Вот то-то и оно — некому. Таков трудный писательский удел — тащить на себе этот груз, сладчайший из всех тягот и невероятно ответственный. Дар небес надо отрабатывать для нас же, людей, читателей, соотечественников, соплеменников. Мастер слова, одаренный и избранный, и слышит, и видит по-особому. И слово его не пустая водица, а замешанная на слезах и крови священная Живая Вода, которая пробивает до дрожи, пробуждает и дает надежду, сращивает перебитые хребты, судьбы и окропляет, объединяет дух и людские души.
«…Мое место у окна в низком легком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе».
Как можно находить такое сочетание точных слов, не понимаю, хотя талант всегда остается загадкой, тайной, недосказанностью. Вещи примиряют! Они, они, старые, выношенные, обвыклые, до боли знакомые, где много, слишком много человеческого тепла, «много в них меня». Старые вещи не отпускают, остатки привычного вещного мира с тобой, и пусть он уменьшится до ничтожной горсти, живая нить не прервалась еще.
Какой очищенный, просветленный взгляд, вглядывание в иные, обетованные пределы, какая зыбкая граница бытия и небытия, человеческого и запредельного мира, нечеловеческого! Может, ангельского, небесного? Кто знает. Прислушайтесь к слову небеса, там нет беса. Суженный, вытянутый вперед мир — не то ли это игольное ушко, пройти которое не каждому дано, но — людям совестливым, праведникам, за ними — правда?
Снова подсказка, со-весть — сообщение, информация, знания, сопричастные, созвучные и взаимные. Не просто весть в одну сторону, но обоюдная, взаимная, ответная.
Может, это и не расставание, а встреча, предчувствие скорой встречи, подготовка себя к новому или прежнему состоянию, проникновение в твои вечные отчие пределы. Из материнского лона все мы выходим на свет Божий, но возвращаемся к Отцу, Отче наш…
Какая нестыковка, какая разность состояний одной дороги: суетной, разъезженной, житейской и правильной, незатоптанной, вечной. Кто же у писателя тот старичок-домовичок? Он при доме, при деле, чего-то ждущий и всматривающийся, он-то знает, чего не знаем мы. Не до срока, рано, еще рано.
В вопросе — ответ, перетекание жизни из одной формы в другую? Вопрос человека любопытствующего, не утомленного жизнью, пытливого и ищущего, способного изложить свои трудные вопросы в письменной форме, ибо так, в писательском сочинительстве, в потоке со-вести и со-творчества возможно уловить слабые токи другой словесности, другие письмена.
Какая тонкая, изящная работа! Читаешь откровения и боишься вздохнуть, боишься помешать автору вытягивать из клубка золотую нить — только бы не оборвалась.
Вот оно, внутреннее видение — заработало, включилось, как настоящий навигатор. Доверься ему, и он выведет совестливую, доверчивую, почти детскую душу из мрачных тенёт, из лабиринтов мрака к спасительному свету, который брезжит в конце туннеля.
Течение спящей реки не шевелится, оно покойно в сонном царствии — лодочник уплыл к другому берегу, он занят своим вечным промыслом. Светится или святится, излучая чистую, ответную энергию человек просветленный, очищенный молитвами, совестными трудами, работающий всю жизнь над словом, как шахтер, как старатель?
Творчество Валентина Распутина и сам писатель — не точка, а светильник в темные времена бедной России, но не быть тьме бесконечно, от его пророческого слова идет свет людям, он питает их верой. Сколько надо было нарубить породы или намыть пустого песка, чтобы найти золотое Слово, служить ему правдой. В руках мастера-огранщика оно заиграло чистыми гранями, любовью к людям, к миру. Через авторскую боль и страдание читатели разглядели радость и слезы, надежду и терпение писателя, сопричастного к радости и слезам своего народа. Это великое счастье российского народа — быть современниками великого писателя, скорбящего и неравнодушного за судьбу своей Родины, Слову которого жить и прорастать в будущее России. Низкий поклон ему и благодарность.
…Есть вещи и явления, непостижимые по своей глубине и значимости.
Простая задача ставит простые вопросы, но чем сложнее мир художника, тем более загадочен и необъясним он для остальных людей.
В стремлении добровольно пойти за писателем, доверить ему свою мятущуюся душу, полную сомнений, тревог, заблуждений, — не в этом ли желании кроются наши надежды? Ведь Валентин Распутин и нам открывает свое сердце — просветленное, чистое, уже отошедшее от земных страстей и потому такое смиренное, как у монаха-затворника.
Его «Видение» — это откровения художника, всю жизнь своими трудами радостно служившего людям. Драгоценные дарования мудрого человека, постижения мира земного и небесного, обращение назад в прошлое и попытка заглянуть в будущее.
Писатель достиг к закату жизни примирения с самим собой и теперь способен созерцать, то есть находиться в состоянии высшей гармонии духа. Писатель в предвосхищении высшего познания и духовной любви. Он предстает перед нами чистым, смиренным и просветленным.
Его созерцание бесстрастно, но в нем нет холодности, бездушия, оно достигло высшего напряжения, и теперь писатель пребывает в ровном, спокойном состоянии духа и сознания.
Талантливое художественное слово совершает некое таинство (со мной определенно) — дает возможность заглянуть в наш душевный мир, приоткрывая мистическую завесу, показывая нам, кем и чем мы могли бы стать и кто мы есть на самом деле.
Напоминание нам о том выборе, который мы делаем ежедневно.
Жизнь человека трагична уже от рождения, потому как обрекает его на смерть. И с этим пониманием логического и неотвратимого конца, завершения земного пути он живет, томится, страдает от одиночества. В самом акте рождения уже присутствует грусть прощания.
Человеческая природа двойственна: нет гармонии между гнетом настоящей действительности и идеалом духовным. Мир несовершенен, и человек перед ним бессилен, он не может его исправить.
Чем отличается художественная литература, искусство, например, от науки? В художественной литературе идет отображение явлений не такими, какие они есть, а такими, какими они предстают в творческом воображении художника или должны быть.
Но мир реальный груб, жесток, циничен и несовершенен, и ему творец противопоставляет мир идеальный, мир творческого воображения. Он — в поисках забвения, убежища тоскующей душе.
В мире реальном существуют де-факто насилие, страх, болезни, страдание, и этому неизбежному гнету необходимости писатель противопоставляет мир свободного полета фантазии.
По Платону это называется некой смутной тоской, воспоминанием художника о забытом, оставленном рае, о его небесной родине. И лишь в моменты редкого творческого подъема художник-творец находит забвение своей смятенной душе, соединяет в себе две дороги: что должно было бы быть с тем, что есть на самом деле. И это единство — естественное состояние.
У многих поэтов необоримое состояние души рождает в творчестве ностальгические чувства о мировой гармонии, они связаны с воспоминаниями о прошлых странствиях души еще в домировой их бытийности.
В мире вещном, действительном, реальном преломляются надежды и чаяния художника-творца. В этой дисгармонии таятся причины протеста человека-творца против «твари» в человеке. Здесь и надо искать истоки творческого стимула художника, высокий подъем и силу духа.
Постижима ли молитва?
С чем сравнить красоту и трепет всего живого мира перед утренним восходом солнца, когда птицы неистово заливаются песенным перезвоном, приветствуя новый день?
Сколько загадочности и любви во взгляде погруженной в себя беременной женщины!
Меня, как и многих других читателей, писатель Валентин Распутин властно покорил силой своего сотворенного слова, и здесь я созерцаю вместе с автором красоту его родной земли, пытаюсь приблизиться к разгадке, мучаюсь, радуюсь и умолкаю.
Молчу в постижении чуда — рождения золотого, правдивого слова.